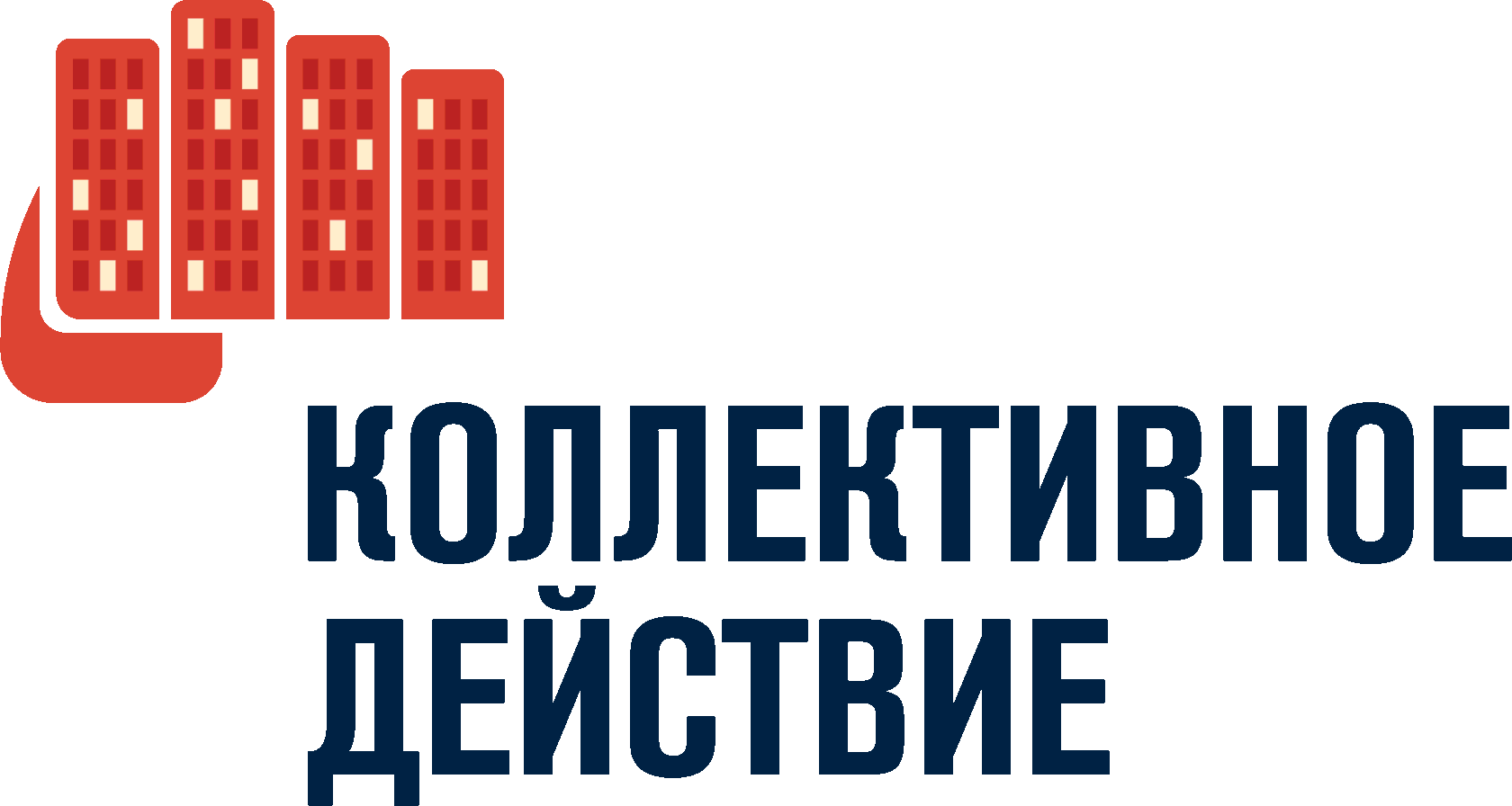и способы с ними справиться
(Д. Прокуронов)
Этот текст — аналитический обзор экспертных интервью, взятых и опубликованных в рамках исследовательского проекта «Авторитарный урбанизм в России» команды «Коллективного действия».
Текст не претендует на исчерпывающую полноту: я обращаюсь к тем сюжетам из интервью, которые в силу моего опыта и образа мысли показались мне особенно важными. Текст также содержит мои собственные наблюдения и соображения о развитии урбанистики в России. Я рекомендую заинтересованному читателю сперва ознакомиться с прямыми цитатами из интервью, а затем просмотреть этот текст. Возможно, какие-то из сделанных здесь выводов покажутся уместными; другие, напротив, вызовут протест, желание возразить, переформулировать — тем самым очень важная для профессионального сообщества дискуссия получит продолжение.
Я хочу поблагодарить коллегу Лилию Воронкову за редактуру этого текста и помощь в формулировании вошедших в него идей.
Приход урбанистики
(Д. Прокуронов)
а также «эффективнее и компетентнее» — в глазах широкого круга не вдающихся в детали горожан.
in Russia
Кооптация
in Russia
Партиципация и мастер-план: как инструменты прогрессивной урбанистики стали средствами кооптации
in Russia
Заключение
Что дальше?
и консалтинга в сфере урбанистики «Гражданская инженерия», автор и редактор телеграм-канала «Урбанизм как смысл жизни», основатель и профессор Школы урбанистики и городских исследований «Города»