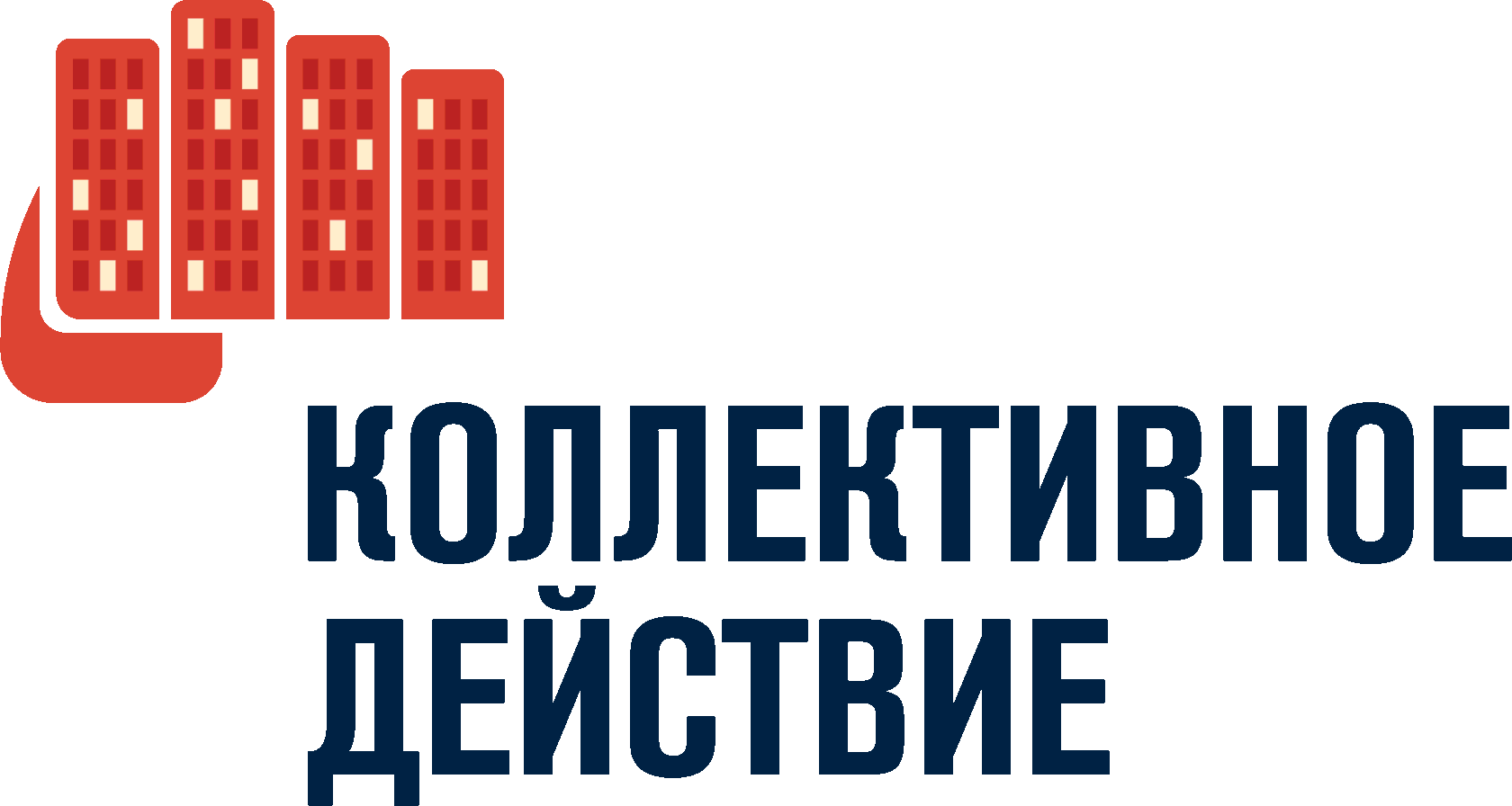Станьте частью команды
дискуссия | 2 июня 2024
Что, если российскую урбанистику сломал не авторитаризм?
Что можно сделать прямо сейчас?
Что можно сделать прямо сейчас?
Обсуждают исследователи и практики городского развития
Команда «Коллективного действия», изучающая российскую урбанистику авторитарного времени, провела дискуссию с исследователями и практиками городского развития. Мы обсудили, действительно ли современная российская урбанистика авторитарна, почему вовлечение граждан не работает и что можно сделать прямо сейчас, чтобы городское развитие стало свободней. В этом диалоге мы постарались собрать людей, которые занимались урбанистикой в России раньше, и специалистов, которые работают в ней сегодня.
Можно ли говорить об авторитаризме в российской урбанистике
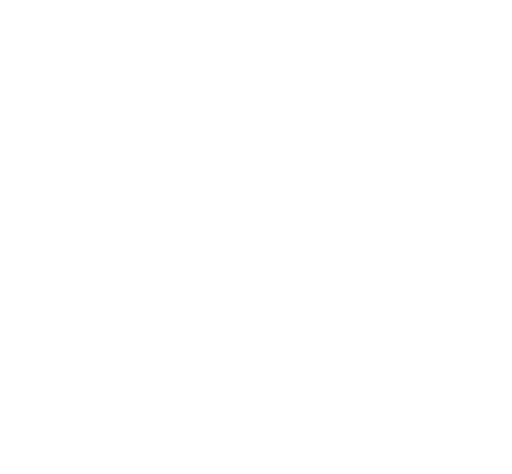
Петр Иванов
соучредитель бюро исследований «Гражданская инженерия», автор и редактор телеграм-канала «Урбанизм как смысл жизни», основатель и профессор Школы урбанистики и городских исследований «Города»
Урбанистика — это набор практик, которые определяют организацию городского пространства на материальном и социальном уровне. Это широкая рамка, в которой могут действовать самые разные люди. Например, ландшафтные инженеры добавляют территориальный слой, маркетологи — рекламный. Нет никакого детерминированного набора составляющих, которые обязательны, чтобы счесть что-то урбанистическим — хотя некоторые федеральные программы пытаются его привнести.
Россия специфична. В ней все экономические и деятельностные процессы так или иначе завязаны на власть. И это накладывает на наше мышление определенную специфику. Не то чтобы пришла власть, что-то обнаружила и кооптировала.
Наоборот, все роились вокруг администраций и предлагали им «папочки», в которых был записан сценарий кооптации. Различные think tanks конкурировали за то, чтобы заинсталлировать свое видение в представления мэрий.
Чтобы изменить что-то в России что-то изменить, естественно, нужно обратиться к власти и попытаться сделать так, чтобы ваша позиция была зафиксирована в худшем случае в виде подзаконного акта, а в лучшем случае в виде закона. Это суть и смысл общественных процессов в нашей стране.
Мы прекрасно понимаем, что источники финансов, которые сейчас существуют для работы урбанистов, так или иначе государственны. В целом очень странно исключать власть из урбанистических процессов, потому что это все же вопрос общественного блага, которое в любом случае регулируется государством.
В Москве политики нет. Там есть ничем не ограниченное насилие людей во власти, которое иногда приобретает приятные, а иногда неприятные черты. Чем меньше территория, тем больше на ней возникает системы сдержек и противовесов, общественной дискуссии и размышлений о совместном будущем.
Малые города — это места, где зачастую разворачивается самый настоящий и увлекательный политический процесс. В нем есть, например, такие явления, как территориальное общественное самоуправление. Есть ситуации, когда мэр является локальным героем, а не ставленником партии власти. Там даже такой риторики нет, а есть рассуждение на тему, хороший ли он специалист и человек
Партийная система на уровне малых городов существует, чтобы быть объяснимой для вышестоящего начальства. Шильдики КПРФ, ЛДПР, Единой России — глубокая формальность. К реальным политическим взглядам и действиям этих управленцев они имеют очень мало отношения. Есть большое количество людей, которые являются членами партии Единая Россия, и я их глубоко уважаю, потому что на уровне своих территорий они творят чудеса.
Российские города недоизучены, и это создает поле для огульных обобщений, что мы имеем дело с неким единым устоявшимся режимом. На самом деле каждая территория по-своему взаимодействует с той самой урбанистикой, которую мы построили, бегая по кабинетам и предлагая, как должна быть устроена комфортная среда. При этом была создана довольно левая и прогрессивная федеральная шапка. А дальше, в зависимости от того, каков городской режим на отдельно взятой территории, эта шапка преломляется.
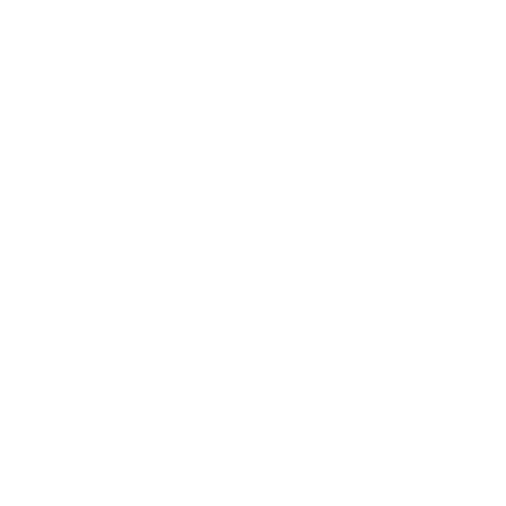
Алексей Арушанян
выпускник программы архитекторы.РФ, автор радиопередачи «Вид на город» и телеграм-канала «Паблик Арушаняна»
Возьмем собачий приют. В нем есть власть. Приют живет по тем правилам, по которым его владельцы считают правильным жить. Плюс есть внешние ограничения. Идет бабулечка мимо приюта, ее раздражает лай собак. Она приходит к властям приюта и говорит: «Давайте прекращайте эту историю». У приюта же есть позиция, что они собак не усыпляют, а каждую обязательно отдают в надежные руки. И на этом строится их политика, их действия и принципы, на которых базируются их решения.
В некоторых малых городах политики совсем нет. Если жители активные, урбанистика частично работает на их интересы. Если жители не активные, урбанистика работает на интересы тех акторов, которые в этом месте проявляют инициативу.
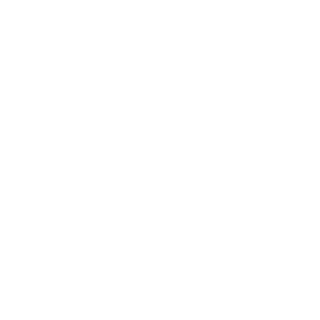
Денис Прокуронов
бывший депутат района Филевский парк (2017 – 2022), со-ведущий подкаста «это базис», автор курса «Введение в левую урбанистику»
Урбанистика — это процесс взаимодействия неких акторов по поводу пространства. Или же это производство знания, нарратива, дискурса о том, как мы относимся к пространству. Как бы мы не определяли урбанистику, она несет на себе отпечаток главного социального антагонизма, который составляет суть всей политики. Поэтому отделять урбанистику от политики — непродуктивно.
Урбанизм в России ровно такой же, как 10 лет назад. Да, он происходит во все более ужесточающихся авторитарных условиях, а сейчас мы уже можем говорить и о тоталитарных тенденциях. Но ядро урбанистического процесса как изменения пространства и знания вокруг этого определяют те же вещи: вопрос собственности и капитала.
Слово «авторитарный» вводит нас в заблуждение. Вспоминая барона Османа, который трансформировал Париж полтора столетия назад, мы все время думаем, что речь идет про авторитарный порядок принятия решений, про централизацию и волевое принуждение к изменениям. Но история социальной критической мысли показывает, что это крепко связано с экономикой. Серьезная перевоплощение городских форм, элементов, самих городов связано с кризисом из-за проблемы размещения избыточного капитала. Этот процесс происходил и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе, и в Москве. У нас неолиберальная капиталистическая урбанистика и такая же политика — но в авторитарной форме.
Тот факт, что в некоторых малых городах люди могут поучаствовать
в соучастии в большей степени, чем в Москве, не делает их равным актором ни корпорации, ни власти, которая крепко связана с капиталом и определяется в том числе его логикой.
в соучастии в большей степени, чем в Москве, не делает их равным актором ни корпорации, ни власти, которая крепко связана с капиталом и определяется в том числе его логикой.
Что не так с городским развитием в России
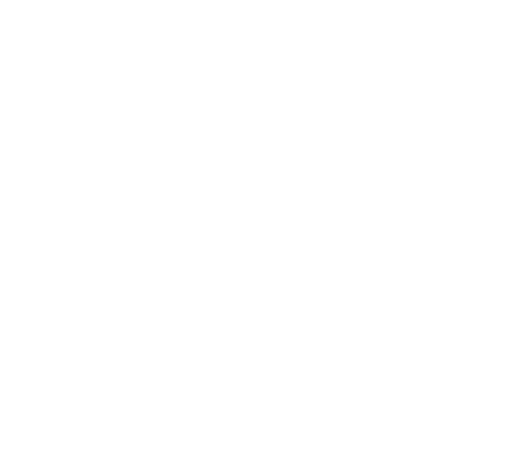
Петр Иванов
соучредитель бюро исследований «Гражданская инженерия», автор и редактор телеграм-канала «Урбанизм как смысл жизни», основатель и профессор Школы урбанистики и городских исследований «Города»
Никакой гарантии, что сессии соучастия действительно обладают тем потенциалом демократического дизайна, который туда изначально закладывается, нет. Соучастие практикует огромное количество людей с самыми разными взглядами и представлениями о том, ради чего вообще все это происходит. Например, в Красноярске для реализации объектов по программе «Формирование комфортной городской среды» нужно обязательно проводить сессии соучаствующего проектирования. По условиям тендеров их должны реализовывать сами команды. Дальше возникает вопрос, сколько красноярских архитекторов являются сторонниками идей Генри Саноффа, который придумал соучаствующее проектирование.
Нам давно нужно перейти в более широкий режим соучастия, вовлекать людей в обсуждение городских стратегий. Как минимум, надо ввести соучастие на уровне стратегии социально-экономического развития города. Сколько я не читал СЭРов — это беспомощные документы.
Соучастие сейчас, хоть и происходит, исполняется не теми, не с теми, не для того. При этом раньше в моем дворе без предупреждения происходили различные эксцессы. Раньше у нас имелась достаточно длинная лавка, на которой сидели три бабушки. А потом все авторитарно поменяли, поставили другую скамейку. Там две бабушки помещаются, а третья уже нет. И все, нет дворового сообщества бабушек. Дальше упал социальный контроль, случилось огромное количество негативных негативных последствий. При соучастии теперь можно регулировать хотя бы такие вещи.
В России очень мало информирования, каким образом люди могут вливаться в урбанистику, в политику, во власть. Учебник по местному самоуправлению написала Елена Сергеевна Шомина в 1999 году. Это базовая вещь. Он до сих пор не появился в школах нашей страны. Когда я выпустился из школы, я даже слова такого не знал, как местное самоуправление. Именно поэтому мы не имеем жителей в качестве заказчика работы урбанистов — люди просто не знают, что можно в этом участвовать. В стране шла осознанная политика на принижение роли муниципальных органов политики, муниципальных выборов.
История соучастия — история подмены. У нас очень слабое муниципальное управление, но зато мы вам дадим соучастие. Дадим возможность определять длину лавки, чтобы все бабушки помещались.
В свое время мы с моим коллегой, философом Ильей Геннадьевичем Гурьяновым создали такую формулу: «Хуже этого только полное его отсутствие». Соучастие в России существует именно в таком режиме. Понятное дело, что мог бы и ножичком полоснуть. И этому надо радоваться.
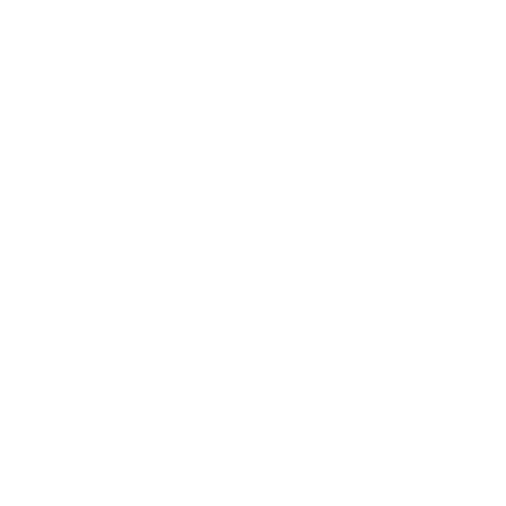
Алексей Арушанян
выпускник программы архитекторы.РФ, автор радиопередачи «Вид на город» и телеграм-канала «Паблик Арушаняна»
В России, если мы говорим про урбанистику и городское развитие, пока что не хватает зарегулированности власти и сообщества стейкхолдеров. Наверное, это хорошо. Сейчас недостаточно людей, которые могут превратить запросы граждан в адекватные решения. Также не хватает специалистов, которые превратят эти решения в стандарт, чтобы их масштабировать.
Пока рано говорить о том, что мы куда-то пришли с нашей урбанистикой. Мы сейчас на этапе, когда уже есть хорошие кейсы, чему-то уже научились, но еще не хватает критической массы людей, которые могут развивать эти практики.
Мы находимся на стадии, когда нужно много заниматься просвещением, образованием, формированием кадров. Правильное направление — не в плоскости общественных движений, а в плоскости хорошего образования и настройки управленческих механизмов, которые позволяют привлекать людей к принятию решений и организации процессов.
Какой должна быть урбанистика
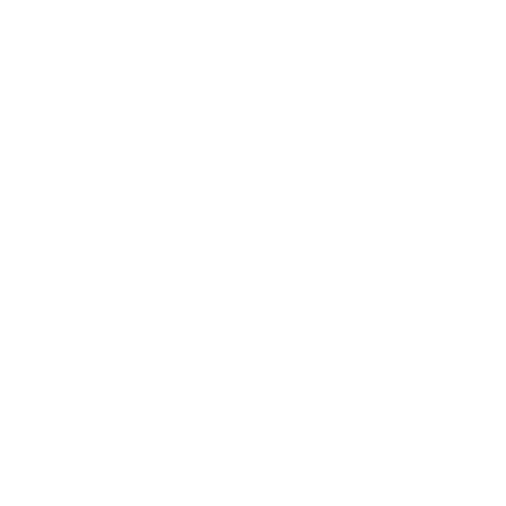
Алексей Арушанян
выпускник программы архитекторы.РФ, автор радиопередачи «Вид на город» и телеграм-канала «Паблик Арушаняна»
Хорошая урбанистика — это не та ситуация, где каждый житель может прийти и сказать, где надо строить дом, а где должен быть парк. Идеальная система жизни города заключается в том, что существует сильное профессиональное сообщество и просвещенная власть, которая умеет пользоваться урбанистическими инструментами по выявлению запросов и проблем горожан и дальше грамотно с этим работать. В том числе найти деньги на организацию процессов.
В начале все просто думают, как бы организовать город. И тут начинается: кто-то что-то сказал, кто-то что-то попросил, кто-то с кем-то подрался. Потом они встретились, объединились, поговорили. Дальше вдруг выбрали главного, который отвечает за эту группу, и тут начинается политическая история: у объединения формируется власть — неважно, рассматриваем мы государство или двор. Вишенка на этом торте — вся собранная информация перерабатывается профессионалами и превращается в регламенты жизни, реализации, процессов взаимодействия.
Допустим, мы говорим про инициативную урбанистику, когда люди сами действуют и заявляют, что им нужно. Я участвовал в ремонте подъезда, где, если мягко сказать, все пересрались.
«Я делал много проектов по благоустройству с вовлечением, где начинались жуткие споры бабушек, автомобилистов, мам с колясками, собачников, детей, подростков. Ничего бы не случилось, если бы там не было модератора»
Именно он организует процесс, делает из него вывод и дальше превращает это в некий продукт, который, наверное, не всех удовлетворяет, но хотя бы пытается сбалансировать эту машину. И это речь идет про очень мелкие вещи, такие, как замена плитки в подъезде или скамейки во дворе. А если мы говорим про строительство жилого квартала на окраине Петербурга?
Даже если реализовано хорошее вовлечение — людям это просто не интересно. Они занимаются своей работой, сидят дома: 98% горожан не будут активно участвовать в проектах. Из двух процентов, которые участвуют, половина не имеет образования, не разбирается в экономике, мало себе представляет, что такое общее благо. Их гораздо больше интересует, чтобы, грубо говоря, на доме повесили табличку «Спасибо деду за победу». Этому человеку не всегда важно, чтобы у подъезда был пандус, если у него самого нет жены с ребенком. Как в этой системе общественного принятия решений разделить деньги? Мы повесим табличку или сделаем пандус для мамы с коляской? Прекрасно, если денег хватит и на то, и на другое. Но что мы будем делать с собачниками? Такие вопросы решаются не общественной дискуссией, а настроенной системой управленцев, укомплектованной профессионалами, которые понимают, что и зачем они делают.
Кроме того, эти профессионалы должны уметь работать с любым градусом общественных конфликтов. К примеру, произошло землетрясение, или город сжимается. Нужно убедить жителей пустеющей территории переселиться из своего дома в другой район, особенно, если какая-нибудь бабулечка не переселяется, а городу надо топить ее дом. Таких конкретных и стратегических вопросов огромное количество, и публичная дискуссия только тормозит их решение.
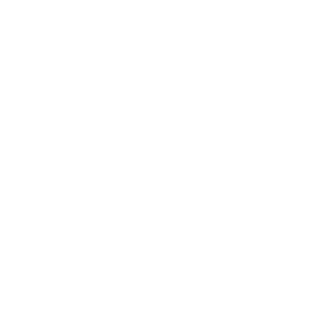
Денис Прокуронов
бывший депутат района Филевский парк (2017 – 2022), со-ведущий подкаста «это базис», автор курса «Введение в левую урбанистику»
Альтернативная урбанистика должна быть про общество, а не про эксперта. Люди должны иметь возможность максимально плотно влиять на все вопросы. Это ни в коем случае не снижает ценности профессионалов, которые занимаются и городским планированием, и проектированием архитектуры. Но максимально далеко отодвигать человека от лавочек — это проблема. При этом гражданин должен влиять не только на благоустройство своего двора, но и на городской бюджет — включая принципы, по которым он формируется. Можно даже весь бюджет перевести в партиципаторный режим функционирования.
Что делать прямо сейчас
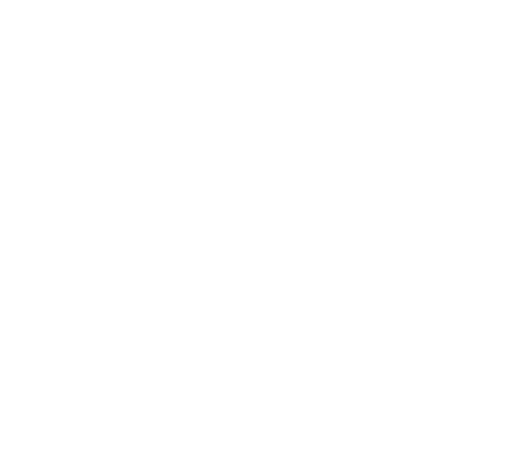
Петр Иванов
соучредитель бюро исследований «Гражданская инженерия», автор и редактор телеграм-канала «Урбанизм как смысл жизни», основатель и профессор Школы урбанистики и городских исследований «Города»
Основатель Высшей школы урбанистики Александр Высоковский говорил: «Все, что мы вам рассказываем на курсах — идеалистическая программа. Но дальше, когда вы после магистратуры выйдете в профессиональное поле, вам придется быть реалистами». Большая драма заключается в том, что мы никогда не сможем поставить урбанистику на паузу, предложить подождать, когда институциональные условия вырастут до высот, которые мы морально оцениваем как приемлемые. Это противоречие между людьми, которые хотят
изменить ситуацию, и людьми, которые хотят быть эффективны в существующих обстоятельствах.
изменить ситуацию, и людьми, которые хотят быть эффективны в существующих обстоятельствах.
Мы не можем поменять урбанистику, политику и власть в России. Но мы можем поменять урбанистику, политику и власть в отдельно взятом малом или немалом городе. Мы можем создать новых акторов и новые практики. Но от того, что они появятся, скажем, в Красноярске или Новокузнецке, они не возникут в Иркутске или Ижевске. Новые акторы и практики должны создаваться и выращиваться в рамках каждой отдельной территории. На самом деле у нас даже пристойное законодательство, и в его рамках может реализовываться пристойная урбанистика.
Можно сдуть пыль с учебника Шоминой, рассказать своим друзьям, коллегам, контрагентам, что существует территориальное общественное самоуправление, и это потрясающий инструмент. Это вопросы, которыми в нашей стране можно заниматься с большим удовольствием и не рискуя жизнью.
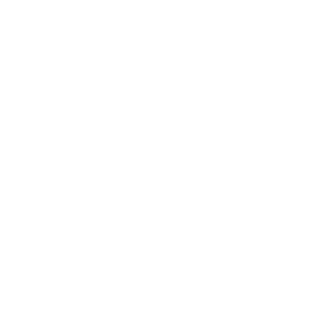
Денис Прокуронов
бывший депутат района Филевский парк (2017 – 2022), со-ведущий подкаста «это базис», автор курса «Введение в левую урбанистику»
Рассуждение, что люди обладают плохим вкусом или не просвещены, и отсюда у нас все беды — очень странное. Действительно, власть много делает, чтобы люди не знали о местном самоуправлении, но стремновато ставить это как причину проблем. Если мы говорим о политике, нужно думать о маленьких действиях, которые можно совершать сегодня и изнутри. Но я не думаю, что, речь должна идти о том, чтобы больше вкладываться в образование чиновников или управленцев. Это вещи и процессы, которые не ставят статус-кво под вопрос.
Можно объединяться и переводить новые книги по урбанистике, просвещать друг друга, коллег, горожан. Образовываться не с точки зрения воспитания вкуса, а с точки зрения того, что у человека действительно есть пресловутое право на город, которое противоречит истории про власть экспертов и чиновников.
Можно проводить исследования не с оптикой, где мы опять пытаемся каким-то образом разделить горожан на категории, придумать новые типологии людей. Зачем? Может быть, надо поставить более радикальный вопрос, как делают многие исследователи по всему миру, и попробовать поисследовать корень и политики, и урбанистики сегодня.
Можно оставаться в профессии, даже будучи не согласным ни с властью,
ни с девелопментом, ни с теми системами отношений, которые сложились. Можно днем зарабатывать на хлеб и реализовываться профессионально, а вечером заниматься партизанской, подпольной урбанистикой, сидеть и переводить книжки, которые рассказывают, что не так с имеющимся подходом.
ни с девелопментом, ни с теми системами отношений, которые сложились. Можно днем зарабатывать на хлеб и реализовываться профессионально, а вечером заниматься партизанской, подпольной урбанистикой, сидеть и переводить книжки, которые рассказывают, что не так с имеющимся подходом.
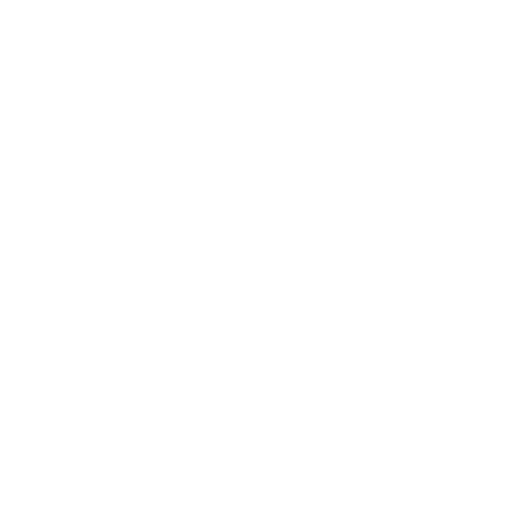
Олег Паченков
социолог, урбанист, исследователь в Центре Городских Исследований Гумбольдтского университета Берлина (GSZ HU), исследователь и координатор проектов в CISR e.V.-Berlin
У нас есть некоторые противоречия между индивидуальными треками, выборами, которые каждый может совершать. Профессиональное развитие, глубокое, серьезное мастерство — это суперважно. Немного наивно думать, что сегодня все будут заниматься сугубо техническими вопросами, а завтра побегут радикально менять ситуацию.
Среди тех, кто профессионально занимается городской тематикой, найдется больше людей, которые попробуют вместе с теми, кто занимается городом извне профессионального сообщества, сместить повестку. Важно поменять ключевые вещи, которые мы обсуждаем и которые находятся в центре внимания урбанистического дискурса.
Нам нужно обсуждать не соучастие, не лавочки, не классные проекты, не комфортную городскую среду, а вопросы, которые могут казаться шире урбанистики — неравенство, власть, репрезентация. Кажется, что эти проблемы более возвышенные, чем те, что обсуждаются сейчас, но именно эти вопросы и лежат в основе всех разговоров про лавочки и конкретные решения.
Одна стратегия — обсуждать, что происходит внутри существующего нарратива о городах, а другая — поставить под вопрос саму рамку, в которой все происходит. Мы все знаем классическую ситуацию, в которой люди не договариваются, или ты их зовешь обсуждать одно, а они приходят и начинают обсуждать то, что им интересно, или обсуждают темы с точки зрения своих персональных интересов. Действительно, после этого возникает сомнение в том, что партиципация — это вообще эффективный инструмент. Но это ложная постановка проблематики.
Говоря о том, что не складывается внутри диалога, мы сразу берем ситуацию федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», в которой написано, когда, почему, с кем, зачем проводить партиципацию. Мы не даем возможности людям поставить эту рамку под вопрос. Вся ситуация с партиципацией сейчас начинается с институционального насилия. Тебе нахлобучили рамку, а дальше говорят: теперь внутри нее давай, демократизируйся, соучаствуй.
«Вовлечение» и «партиципация» — совершенно не одно и то же. Когда есть «вовлечение», то есть тот, кто вовлекает и кого вовлекают. «Партиципация» — децентрализованный процесс. Для этого подходит формулировка «инициативная урбанистика». В ней нет насилия навязаной рамки.
Только эти процессы имеют смысл, только в них имеет смысл инвестировать наш профессионализм. Такие действия ведут к трансформации не только городской среды, но и процессов в обществе.